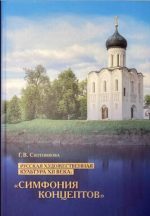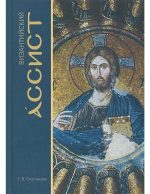Немеркнущий свет Византии: что мы знаем о нем? Профессор Галина Викторовна Скотникова об актуальности исследований Византии в России
Недавно в свет вышли две книги доктора культурологии, профессора, ведущего научного сотрудника Российского института истории искусств, византолога Галины Викторовны Скотниковой, посвященные связям Византии и России: «Византийский а́ссист. Византийская художественная традиция и русская культура. История и теория» (2018), а также «Русская художественная культура XII века: “симфония концептов”» (2022), последняя удостоилась диплома XIV Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь». Мы поговорили с Галиной Викторовной об актуальности изучения и осмысления византийского наследия в России.
– Споры о Византии в отечественной и западной науке ведутся по сей день. С какой позиции вы как ученый смотрите на византийскую цивилизацию?
– Я убеждена, что изучение Византии и ее наследия для русского самосознания очень значимо, как с точки зрения понимания нашей духовно-душевной природы, наших идеалов и ключевых ценностей, так и в аспекте масштабного видения мировой истории. Господствовавший в европейской историографии европоцентризм (кстати, блестяще преодоленный Н. Я. Данилевским в его труде «Россия и Европа») продолжает и в настоящее время агрессивно утверждать себя, нередко порабощая умы наших соотечественников.
Если мы обратимся к западноевропейской и русской византинистике, то легко обнаружим, что и в науке противостояние европоцентристского и цивилизационного подходов проявляется в виде кардинально различных методологических кредо. На Западе сложился и сохраняет свою действенность «византийский миф», который начал формироваться после Четвертого Крестового похода 1204 года, когда Запад ограбил Византию, вывезя бессчетные богатства, и идейно окреп в эпоху Просвещения в текстах Вольтера, Кондорсе, Монтескье. Византия описывалась ими не столько с исторических, сколько с политических позиций, как некое препятствие на пути общечеловеческого прогресса. Закреплению в общественном сознании отрицательного отношения к Византии способствовали и труды историков, француза Ш. Лебо́ и особенно англичанина Э. Ги́ббона, смотревших вслед за просветителями на Византию только как на «торжество варварства и невежества», как на тысячелетнее падение Римской империи и, соответственно, относившихся к ней с презрением. Эти западные воззрения, воспринятые в России, породили долго сохранявшееся настороженное отношение даже к самому слову «византизм».
Отечественная наука в начале второй половины XIX века совершила прорыв в понимании Византии, показав ее как самобытную цивилизацию, первую христианскую средневековую империю, краеугольными камнями которой стали греческий гений, римская имперская идеи и греко-римское культурное наследие.
Основатель Византии, первый христианский император Константин Великий, в своей заключительной речи на созванном им первом Вселенском соборе 325 года провозгласил формообразующий принцип новой культуры, сказав: «Государство есть ограда Церкви…» Этот принцип вошел в историю культуры под именем «симфонии властей» (священства и царства), или «византийской симфонии». Именно он был воспринят Русью, свободно раскрывшей под мощным организующем началом византийского влияния те силы, которые уже хранились в русских душах. Византия стала нашей Одигитрией (Путеводительницей) в горний мир. Именно в этом смысле К. Н. Леонтьев говорит: «…все мы являемся чадами византийской культуры». Византизм определил Православие как нашу цивилизационную доминанту.
– Тем не менее в России до сих пор можно услышать «отрицательные» оценки роли Византийской империи в русской истории. Как случилось, что мы, духовные восприемники и «чада византийской культуры», критически относимся к Византии и мало знаем о ней?
– Задаваясь вопросом о причинах странного беспамятства, аберрации исторического воззрения отечественной культуры, можно выделить основные периоды отношения к Византии. История культуры народа есть история живой, развивающейся традиции, судьба которой во многом определяется направленностью усилий общества. Сохранение памяти требует специальной, целенаправленной, продуманной заботы о развитии самосознания народа.
В Древней Руси в восприятии Византии однозначно господствует плюс. При этом она воспринимается только как наша духовная наставница. Светские реалии византийской истории и культуры, которые в самой империи очень ценились и пристально изучались, Русь не интересовали. Этот вопрос впервые специально исследовался в докторской диссертации Ф. А. Терновского, защищенной в Киевском университете святого Владимира в 1877 году, — «Изучение византийской истории и ее тенденциозное приложение в Древней Руси». Автор, посвящая свое сочинение раскрытию древнерусского образа Византии и характера отношений с ней, делает вывод, что Византия воспринималась исключительно сквозь церковно-религиозную призму как некий образ-символ православной Греческой державы.
В петровскую эпоху на византийскую историю начинают смотреть как на некое далекое прошлое
Минус как отталкивание, ориентация на Рим, минуя Византию, то есть вхождение в западноевропейскую культурную парадигму, возникает в России, как известно, со времен Петра Великого. Правда, сам Петр I, устремляясь в Европу, полагая, что она «будет нужна нам на несколько десятков лет…», заложил православные духовные архетипы в основание Санкт-Петербурга, новой столицы России. На византийскую историю начинают смотреть уже не как на пример для подражания, а, напротив, как на некое далекое, отжившее свое прошлое.
В XIX веке русское образованное общество находилось под «облучением» западноевропейского нигилизма по отношению к Византии, который, однако, постепенно начинает преодолеваться в русской философии в 1830–1850-х годов в лице А. С. Хомякова и И. В. Киреевского, возвращающихся к Церкви и святым отцам. На вторую половину XIX века приходится классический период русского самосознания. Начиная с 1870-х годов утверждается идея России как самобытной православной цивилизации, в фундаменте которой византийская «симфонии властей». Речь идет о проявлении этой идеи в различных сферах культуры: в политике, в культурфилософии, в византиноведении, в церковной архитектуре.
В конце XIX — начале XX столетия русская, по преимуществу петербургская, византинистика обретает статус всемирно известной школы. Ее развитию активно способствовало российское правительство, соединявшее с задачей решения чисто академических задач стремление к усилению культурного и политического влияния России на Востоке.
В 1917 году византиноведение было разрушено в России как целостная область знания. В начале 1930-х годов научная деятельность в области византиноведения в СССР фактически прекратилась. С 1943 года ситуация постепенно начала меняться, однако общие атеистические и материалистические установки оставались серьезным препятствием для адекватного восприятия наследия Византии, давшей «нашей истории и всему культурному ее строю свою определенную фигуру и свое лицо», как писал академик Ф. И. Успенский.
1988 год — празднование Тысячелетия Крещения Руси — явился поворотным, начался новый этап отношений Церкви и общества, Церкви и государства. Несомненным знаком «открытия окна» в Византию для широкой общественности, разрешающим сигналом, символом положительного отношения к ней власти стали две объемные статьи С. С. Аверинцева, опубликованные в журнале «Новый мир» в 1988 году: «Византия и Русь: два типа духовности». Вспомним, что в эти годы тираж «Нового мира» был более миллиона экземпляров.
Но устремленность России 1990-х годов к вхождению в западную цивилизацию сделала проблему самобытности и самостоянья неактуальной. При разработке государственно-культурных перспектив и задач значение византийского наследия оказалось вне поля зрения. Это означало, что национальный духовный идеал, определивший тип нашей ментальности, внутренний склад человека, стал рассматриваться как устаревший, не соответствующий утверждающимся реалиям рыночных отношений в обществе.
Нынешняя ситуация подтвердила существующую в отечественной культуре закономерность: старая, как и сама русская история, тема византизма, византийской традиции всякий раз становится новой в периоды неустойчивые, поворотные, требующие осознания и укрепления опор духовно-нравственного и государственно-исторического бытия России.
– Если родство наше с Византией определяется православной верой, то в чем же выражались различия? Как Россия творчески переосмыслила духовный импульс Византии?
– Византия жила служением Истине как высшей Красоте. Она дала нам иконический идеал, согласно которому земной мир есть образ-посредник, икона Царства Небесного. «Бог устроил этот мир как некое отображение надмирного мира, — пишет в XIV веке святитель Григорий Палама, — чтобы нам через духовное созерцание его как бы по некоей лествице достигнуть оного мира». Православие научило нас тому, что священное есть главное в жизни: «Душа человеческая — всего дороже, ее спасение, цельность и полнота внутреннего мира прежде всего», — пишет философ П. Е. Астафьев.
Но Византия выросла на античном фундаменте, она никогда не стояла перед выбором самой себя, ее развитие было раскрытием огромных возможностей, обусловленных наследуемыми многовековыми традициями, «великолепными как павлиний хвост». В различные исторические эпохи отношение Византии, например, к эллинской словесной классике, при всех различных нюансах оставалось отношением собственника к неотъемлемой, само собой разумеющейся собственности. Русь не имела прямой связи с античностью, приобщившись к ней опосредованно через «византийскую античность».
Церковное искусство русского Средневековья, Древней Руси, было художественно воплощенной молитвой, способом Богообщения. Освоив выработанные Византией общие канонические принципы, оно свободно развивалось по самобытному пути, который изначально отчетливо проявился, прежде всего, в формах храмового зодчества («Древнерусский храм никогда не спутаешь с византийским», — говорил М. В. Алпатов) и интонационном строе певческого искусства.
В древнерусском церковном искусстве воплощены вечные духовные законы, а также наши архетипы, смыслы, которые важно научиться воспринимать, то есть находить адекватные ключи к пониманию своеобразия искусства русского средневековья, обращающегося к живому духу верующего сердца.
В XII веке князь Андрей Боголюбский осуществил во Владимире свой сакральный замысел, воплотив в храмовом зодчестве высший идеал народа — восприятие Русской земли как святыни, Богу служащей и потому освященной Родины. Храм Покрова на Нерли предстает сегодня как «сердце России». Русская художественная культура XII века в своих вершинных проявлениях — «цветущее песнопение». Они порождены духовными родниками русской души, преображенной, вдохновленной верностью Православию, души, воплотившей в них Красоту Божьего мира и свое призвание к служению Святому Духу. Выдающийся петербургский современный поэт Юрий Шестаков пишет, проникновенно ощущая связь времен: «О, если б не бесплоден был бы камень, кусочек храмовых руин посеял бы я в землю как зерно».
– К сожалению, нам часто не очевидна преемственность и связь отечественной и византийской культур в силу неосведомленности. Уделяется ли достаточное внимание этому вопросу в образовательных программах?
– Действительно, для подавляющей части нашего общества питающие культуру древнерусско-византийские родники находятся под спудом. Николай Рубцов пишет: «Какая жизнь отликовала, / Отгоревала, отошла! / И все ж я слышу с перевала, / Как веет здесь, чем Русь жила». Но, к сожалению, большинство наших соотечественников, возможно, скорректируют слова поэта вопросом: «И все ж я слышу ль с перевала, как веет здесь, чем Русь жила?»
Осознанию византийских истоков своеобразия отечественной духовности почти не уделяется внимания в современных образовательных программах: и школьных, и вузовских. Оторванность от исторических корней существования народа и государства во многом определяет распыленность сил, ценностный релятивизм современного россиянина. А без их отчетливого понимания и личностного освоения невозможно укрепление фундаментальных опор духовно-исторического бытия Отечества.
«Скажи, что для тебя значит Византия, и я скажу, что ты в себе содержишь», — именно так можно обратиться к современнику, имея в виду его представление о месте России в мировой культуре и его связи с Византией. Излишне говорить об отсутствии отчетливого представления о блестящей византийской культуре, ее необыкновенной творческой мощи и плодотворном духовном влиянии на многие народы. В Византии, это объективно, был такой уровень богатства, глубины, интеллектуальных и духовных возможностей, что рядом поставить нечего.
– Каковы перспективы в деле изучения и осмысления византийского наследия в России?
– Сейчас наступил весьма благотворный для этой области знания период: активного собирания сил, взаимодействия светской и церковной науки, освоения традиций дореволюционной и эмигрантской научных школ, вызревания самостоятельных исследовательских концепций и парадигм. Однако в широком общественном сознании Византия, глубинно связанная со строем русской души, по-прежнему во многом «остается загадкой». Именно с целью преодоления этой ситуации написаны, в том числе, две мои монографии. Надеюсь, что скоро будет завершена и опубликована еще одна, посвященная воплощению духовности Византии в художественном сознании XII века, «эпохи Комнинов», ставшей квинтэссенцией византизма. Напомню слова выдающегося русского византиниста А. П. Рудакова, писавшего, что, изучая «византинизм», мы, русские, все время чувствуем себя дома, углубляем свое самосознание, восходим к истокам своих родных ключей.
С Галиной Скотниковой беседовала Елена Жданова
18 августа 2025 года
Источник: https://pravoslavie.ru/171957.html
Опубликовано: 18 августа 2025 / Обновлено: 21 августа 2025