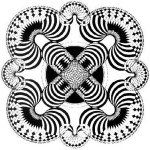Открытая лекция И. Д. Саблина «Ленинград Чернихова»
В среду 23 сентября состоялась выездная открытая лекция кандидата искусствоведения, старшего научного сотрудника сектора изобразительных искусств и архитектуры И. Д. Саблина «Ленинград Чернихова».
Яков Георгиевич Чернихов (1889–1951) — выдающийся советский архитектор и график, автор нескольких сенсационных для своего времени книг, созданных в эстетике конструктивизма и супрематизма. Фигура противоречивая, до сих пор вызывающая споры — но также и безудержный восторг и восхищение виртуозностью созданных им работ. Его графические сюиты давно вошли в золотой фонд русского авангарда. Гораздо реже вспоминают, однако, о вкладе Чернихова в реальное строительство, равно как и о привязке его творческой деятельности к определенному месту. Уроженец Павлограда, он учился в Одессе, последние годы жизни провел в Москве, где умер и похоронен. Но самый яркий период его творчества пришелся на время, когда зодчий жил в Петрограде–Ленинграде, и многое в его наследии было бы очень трудно понять, если упустить из виду этот отнюдь не второстепенный факт биографии зодчего. Здесь же сохранилась и самая известная постройка Чернихова — водонапорная башня бывшего завода «Красный гвоздильщик» (25-я линия В. О., д. 6).
В эти дни в нашем городе проходит первая за 25 лет выставка архитектора. В ряду приуроченных к ней разнообразных мероприятий и лекция-прогулка, организованная И. Д. Саблиным, — попытка определить место Чернихова в архитектуре города.
В ходе подготовки к этому мероприятию И. Д. Саблин побеседовал с внуком Чернихова, тоже архитектором — Андреем Александровичем Черниховым. Все последние годы именно он главный пропагандист и хранитель наследия зодчего.
Итак, кто же такой Яков Чернихов?
Прежде всего, я должен рассказать о моем личном отношении к нему. Все началось с раннего детства, когда я засыпал и просыпался под фантастически виртуозными картинами в золоченых рамах, которые со дня начала осознанного взгляда на мир в меня просто впечатались. Оттого после некоторых борений я и сам решил пойти в архитектурный институт и так стал архитектором. Первые выставки, которые я подготовил, насчитывали до 800 подлинных работ, и метраж был под 1000 м2. Эта экспозиция с помощью Люфтганзы объездила потом десятки стран. А в 1990 году в корпусе Бенуа Русского музея проходила большая выставка, но всего десять дней — так под конец хвост очереди растянулся далеко по каналу Грибоедова!
Если же говорить о нем самом… Видите ли, Яков Чернихов был такой зодчий, который в один день мог отправиться в путешествие и в будущее архитектуры, и в тысячелетнее прошлое. Что далеко не каждому дано из тех, кто занимается архитектурной фантазией. Как известно, Пиранези будущим не интересовался. Чернихова вообще трудно сравнивать с известными архитекторами-фантастами, здесь скрывается совершенно иной гений, ведь это его пребывание в разных точках времени уникально. Так получилось, что основные его книги были изданы до 1933 года, когда, как известно, случился поворот в сторону неоклассицизма, и еще несколько книг, уже утвержденных к печати, были запрещены, а набор попросту рассыпали. Поэтому он остается таким романтиком, фантастом, художником, даже поэтом русского конструктивизма, хотя на самом деле Чернихов — далеко не конструктивист.
А как бы Вы определили его стиль?
Это некое предвидение красоты будущей архитектуры, это модернизм, но не корбюзианский, я бы говорил скорее о финской линии, об Аалто, о Палласмяа и о таких фигурах, как Лоос, потому что в них есть та художественность, тот артистизм, которого, если честно, не хватало конструктивизму, и та изысканность, отсутствием которой так страдал конструктивизм. Даже настоящим мастерам, вроде Весниных или Голосова, тоже свойствен уход от искусства в сторону выхолощенной идеи.
А в современной нам архитектуре есть кто-нибудь, кто был бы близок Чернихову?
О да. И, что самое интересное, это не всегда известные имена. Например, я был совершенно потрясен, когда, проезжая по Мехико (еще во времена Советского Союза), увидел идеальное черное здание, осуществленное прямо по композиции из книги «Конструкция архитектурных и машинных форм». Вот хочу попасть туда снова. Конечно, я не вспомню, где оно, придется прочесать весь город еще раз! Нечто похожее есть в Японии. Опять же, это необязательно большие фигуры, вроде Танге или Андо… Или, например, опрокинутая пирамида центра Форда 1974 года — Чернихов где-то в начале войны или перед самой войной рисует опрокинутую пирамиду, но более гигантского, естественно, пиранезианского масштаба и называет это «дворцом коммунизма»… Как-то он хорошо попал в эстетику городских ансамблей, вроде тех, что можно найти сейчас, к примеру, в Милане…
И все-таки его работы — это уже история, ведь архитектура пошла в совершенно другом направлении; о котором Чернихов, кстати, тоже написал два–три предложения: архитектура обязательно будет впитывать в себя природу, это будет биоархитектура, при этом даже термина такого еще не существовало, но он его предвидел!
Он постоянно писал о том, что нельзя делать бездушные коробки, как человек, воспитанный на классических пропорциях, эвритмии, соразмерности, не на ордере, на духе классики, которая все-таки идет от человека. Я вот студентам говорю, такой простой пример: если взять гигантский шпатель и пройтись им по Петербургу, Парижу, любому другому городу, то выяснится, что 90 % с лишним архитектуры — это коробки с окнами, а дальше декор, и каждая эпоха создает свои системы декора, основанные, прежде всего, на антропоморфном начале. Конструктивизм и супрематизм исходили не из человека, а из машины.
Но ведь машинная эстетика была близка и Чернихову?
Верно, но вот в каком смысле. Во-первых, машина демонстрирует огромную скрытую, как бы замороженную энергию, которая при нажатии кнопки себя раскрывает, в статическом же состоянии это такой сгусток энергии, как тигр перед прыжком, и эта мощь тождественна энергии, которую концентрирует в себе всякая подлинная архитектура.
Во-вторых, машина идеальна по своей геометрии. Автомобили, экскаваторы и т. п. Не сегодняшняя машина, это уже пятый технологический уровень, в котором вы ничего не понимаете, потому что устройство настолько же сложно произвести, насколько просто им пользоваться, как, скажем, айфоном… А экскаватор, домну или паровоз еще можно, грубо говоря, мысленно собрать и разобрать. Так вот для Чернихова машина — это такое платоновское сочетание идеальных геометрических тел, которые могут таить в себе огромную энергию. Он не имел в виду, что машина должна стать архитектурой, как у Корбюзье, хотя и Корбю подразумевал под этим сборочность, а вовсе не машиноподобие форм, что ошибочно потом было тысячами критиков повторено, а архитекторами воспроизведено как в кривом зеркале.
Для Чернихова важнее всего была максимально спрессованная энергия, музыка машины, которой он упивался, проследив весь ее путь — от праобразов машинных форм, чуть не от болта и гайки, до таких комбайнов, которые у него превращаются в монументы, потому что машины ведь были тогда высотой в четыре этажа, и чтобы подняться на какой-нибудь уровень этой машины, требовалась двух-трехэтажная лестница. Таких машин почти не осталось, но вот когда я был в Детройте, в музее техники, я увидел там паровоз конца XIX века — это сущее чудовище, сам размер просто фантастический! Машина со временем стала очень стильной, в ар-деко уже не остается элементов традиционного декора, это уже промышленный дизайн в чистом виде.
Как Вы полагаете, какую роль в становлении Чернихова сыграл наш город?
Очень хорошо, что из Одессы, где Чернихов окончил художественное училище, города, четко спланированного, но топографически весьма разнообразного, он попал в плоскодонный Петербург… Ему не хватало геометрии Петербурга. Ему нужно было попасть либо в Париж, либо сюда, но уж точно не в какой-то город с относительной свободой планировки, вроде Москвы. Как раз в Москву ему не следовало попадать раньше времени. И он туда приехал уже сформировавшимся питерским графиком в 1938 году.
А что еще способствовало его превращению в графического виртуоза?
Чернихов жил всегда в орнаментальном мире, который жестко дисциплинировал руку и глаз; я вообще рассматриваю его как такой гигантский биосканер. Я все пытался понять, как у него выстраивалось такое практически самовоспроизведение композиций, которых не было прежде, — ведь можно что угодно говорить о том, что гений берет там, где что-то находит: в живой природе, в кристаллографии, но мелодия, которая рождается в гениальных композиторах, ее нигде не найти, никакой компьютер ее не сочинит. В музыке кроется та самая тайна!
Так вот я, кажется, понял те несколько вещей, которые этот сканер вкладывал в его сознание, — например, петриковские росписи. Это Центральная Украина, где расписано было все — и фасад хаты, и весь интерьер, скатерти, рушники до 20 м длиной, это был целый мир орнаментов. На зданиях росписи каждый год смывали под великий какой-нибудь праздник и наносили вновь; орнамент проживал столько жизней, сколько хозяева дома. Потом он мальчишкой подрабатывал на ситценабивной фабрике в том же Павлограде — то есть снова орнамент! Еще он видит духовые оркестры, возможно, даже сам пытается играть, а ведь там несколько десятков человек, которые образуют своеобразный орнамент из медных труб. Он сам по собственной инициативе собирает гербарий и тут же начинает ловить все, что прыгает и летает (отец его работал на ликеро-водочном заводе, соответственно, во что букашек погружать, было всегда под рукой). И что интересно, в гигантской мазанке, которую я еще застал в моем детстве, жило 15 человек: две пары родителей и 11 детей. Так ему там выделяют отдельную комнату, которую он заполняет гербариями, вот этими заспиртованными тварями и еще рисунками, которыми обклеивает даже потолок — ему все не хватает места. И зарисовывает он природу, ему это было почему-то нужно, а потом в 16 лет убегает из Павлограда. Так мальчик начинает сканировать и выбирать из окружающего мира то, что ему когда-нибудь пригодится, вот эта предопределенность мозга, который еще не знает, кем станет человек… а на самом деле, конечно, знает…
Что изменилось в Вашем отношении к творчеству деда за те годы, что Вы его изучаете?
Я десятилетия потратил на то, что описывал Чернихова в основном как архитектора, будучи сам архитектором, — будь я культурологом, я бы раньше догадался. Теперь же представляю его себе не столько как архитектора — фантаста ли, романтика ли, — а скорее как геометра, потому что я понял, что для него абсолютно равными по силе увлечения были орнаменты, супрематическое черчение, промышленный дизайн, когда он из болта и комбайна выводил архитектурный ансамбль, вообще ощущение новых ритмов города — такие города стали строить лет через 30–40, с ритмоструктурами, которые он нарисовал, похлеще, чем у самого Корбюзье, — и покрасивей (хотя жить в них все равно невозможно).
Более того, шрифт был для него неким логическим завершением пути — он ведь интуитивный художник и тексты писал только потому, что не писать тексты было не принято. Я взял все его тексты и сделал из них выжимку, там есть несколько сущих кристаллов, когда он пишет, к примеру, что истинному архитектору нужно уметь заглянуть глубже и дальше в пространство и время. Таких цитат не много, и они самое ценное. Он, вообще-то, мог обойтись эпиграфами к своим фантазиям, но так как был педагог и преподавал, в том числе крестьянам, которые пришли в Ленинград в поисках куска хлеба, то язык у него был весьма демократичен, бесхитростен, и во многом он повторял то, что было и так известно, но все это цементировалось чем-то таким, о чем до сих пор никто не может сказать, что это такое, — той силой композиции, которая живет только в гениальных художниках, великих мастерах.
А на самом деле он был творцом визуального, предчувствовал и компьютерную графику, и оп-арт, и машинность, и чистоту новой геометрии, которая, да, шла от самого Платона, но он очень глубоко в нее проник, и тут, кстати, помогли не только флора-фауна полугорода-полусела, в котором он родился, но и сидение затем за мощнейшим микроскопом в институте военной микробиологии. Было бы, кстати, небезынтересно узнать, чем они там, в этом закрытом институте, занимались… Чернихов утверждал — и был в этом отношении абсолютно прав, — что в XX веке графическая грамотность, то есть овладение приемами этого искусства, должна стать такой же всеобщей, что и грамотность вообще.
Ну а Чернихов-архитектор?
Мне кажется, он увлекся архитектурой лишь на какой-то период, и, если бы судьба была к нему более благосклонной, он бы, наверное, продолжал оставаться просто хорошим архитектором. Но она не оказалась благосклонной… Очень много было личного, в отношениях, которые определяют в нашей профессии столь многое.
В самом деле, как у него складывались взаимоотношения с московскими коллегами, прежде всего лидерами архитектурного авангарда?
У него не было отношений. Я вам расскажу про Мельникова. Когда историк архитектуры Иконников оказался в больнице на соседней койке, естественно, в силу своих профессиональных интересов, он начал его расспрашивать: а вы знали того, а этого, а Чернихова, к примеру? На что ответ всегда был один и тот же: не знаю, не помню, кажется, да, а вообще-то нет. Мельникова никто другой не интересовал.
Что касается прочих… Поймите, зависть была колоссальная. Этому, конечно, способствовало и то, что у Чернихова был очень непростой характер. Как всякий гений, он понимал, что он гений, и вел себя именно как гений по отношению ко всем. Архитектор — это ведь такая кастовая история. Отношения в архитектурном мире строятся не на импульсивности, это самый долгоиграющий вид искусства, соответственно, и архитекторы обладают другой ментальностью. Художники, бывает, напились, повздорили, потом помирились, у зодчих все не так. Апломб Чернихова, который и в текстах был далеко не так силен, а в графике мог воспользоваться мотивами уже известными, но тут же изобретать и показывать абсолютно оригинальные решения. Все это вызывало неприятие… Его претензии. Надо только понимать, что претензии были тогда у всех, 1920-е годы — это апломбы, амбиции, практически хамское отношение друг к другу, безапелляционность, доходившая до драчливости, до публичных оскорблений, откровенных доносов. Но надо понять, что так было повсеместно: гнобили все всех, получалось, кто кого перегнобит… И когда Чернихов попал в Москву, туда переехали уже многие питерские зодчие — Руднев, Гельфрейх, Щуко. Команда ленинградцев была очень сильна, и Чернихову места в этой когорте не досталось. А когорта его просто откровенно персонально не любила.
Он не пытался еще что-нибудь опубликовать?
Пытался. Но безуспешно. Для того чтобы что-то опубликовать после 1935 года, уже нужна была рекомендация Союза архитекторов СССР. И вот после войны, когда он еле-еле выжил, он приносит в Дом архитекторов доклад и сотни своих «архитектурных сказок». Сюита фантастической красоты, с потрясающим фантазийным мышлением. Есть стенограмма. Он выступил с докладом, а присутствовали абсолютно все звезды, кого там только не было! И хорошо видна температура обсуждения. Доклад Якова Чернихова, потом очень лестные оценки, потому что все были поражены его мастерством, обаяние у этой графики колоссальное, энергия колоссальная. А потом дискуссия пошла в сторону: типа хорошо, но не сейчас… То есть открыто не говорили: пошел ты, но сказали так и не дали рекомендации. Невинная вещь, казалось, дай ты этим театральным фантазиям, этой сказочной архитектуре дорогу, ну будет какая-то книжечка симпатичная, может, для детей. Так нет же, не дали! Был Чернихов тогда уже отнюдь не молод, раньше, году в 1933-м он это опубликовать не смог, а ведь были еще серии «архитектура и индустрия», «архитектурная романтика», «архитектурные сказки», штук семь–восемь сказочных циклов, если бы они тогда увидели свет, была бы библиотека Якова Чернихова томов на 20–30, и никто бы не говорил теперь, что он архитектор, и только.
Но как архитектор сейчас он как раз известен не многим. Весь мир знает его проекты, книги. А как же постройки?
Надо копать.
Как это сделать?
Таскаться в какие-нибудь Белозерски, Петрозаводски. Где-то искать…
Но Вы не искали?
Нет. У меня своей работы вот так.
А кто-то?
Никому не надо
Почему?
Есть две причины. Первая — я согласен, что, в общем, за вычетом двух–трех проектов, один из которых был реализован в виде той самой водонапорной башни, они не выходили за средний добротный уровень конструктивизма, потому и нет у исследователей желания рыться, находить и докапываться, потому что не увидишь ничего такого сверхнеобычного, вроде Мельникова. Вторая — даже то, что он спроектировал, а кое-что и построил, я думаю, половину время не пощадило, этого просто нет. Я делал несколько туров по Питеру сколько-то лет назад в попытках хоть что-то отыскать. Но у меня физически нет времени.
А те самые неизданные книги, есть сейчас возможность что-то опубликовать? Не о нем, а именно его работы?
Я сейчас доделываю свою монографию: два тома. Первый — это история всего с эскизами, вариантами, с текстами о нем, а второй — это альбом и минимизированные тексты, я все обработал. Вот такая книжка: Чернихов о себе, но сжато, без лишнего.
Завод «Красный гвоздильщик» сейчас в плачевном состоянии, каким Вы видите будущее этого здания?
Я поддерживаю отношения с теми, кто его купил. Возил этих людей в Хельсинки лет пять назад, устраивал презентацию — что помогло не снести. Все остальное на этом участке уже снесли, а были замечательные кирпичные корпуса! Ну, я еще лет десять назад начал заниматься башней — еще с предыдущими хозяевами. Потом, благодаря мне, они при продаже поставили условие, что вот этот цех не будет уничтожен. А он тогда еще не был памятником.
А что они будут там делать? Жилые дома?
Да, 200 тыс. м2 жилья…
А с башней что?
Я предложил устроить в ней музей ленинградского конструктивизма —пространства-то колоссальные, 5000 м2, манеж ленинградский всего 2000 м2 с хвостиком, это московский 5000 м2. Но собрать такой музей невозможно, и денег никто никогда не найдет. Музей может занять ту часть, где башня, а сам цех можно отдать Репинке под студии, может быть, общежитие. Дизайн-центр — это сейчас неактуально, понятно, что в стране как не было дизайна, так и нет… и не будет. В общем, что-то будет. Только бы не супермаркет!
Опубликовано: 23 сентября 2015